Музей МГТУ им. Н.Э. Баумана
Мытищинский филиал
ЖЗЛ — Жизнь Замечательных Лестеховцев
Студент Лестеха — поэт Наум Коржавин
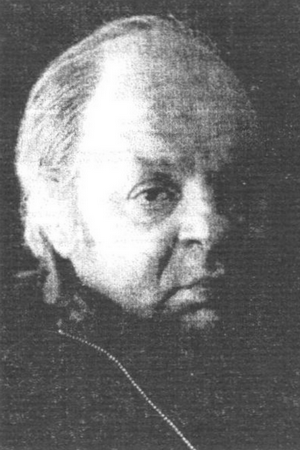
«Я просто русским был поэтом
В года, доставшиеся мне...»
Поэт в России больше чем поэт. И даже если русский поэт (телесно) пребывает на «том», американском свете, в Новой Англии — для России он остается именно таким Поэтом. Эта удаленность истончает его телесную оболочку, превращая имя — в символ (как и имя другого, но вернувшегося и живущего рядом с нами прозаика Духа — Александра Солженицына).
«Географическая» удаленность (но не отдаленность) от Родины не дает явной (и яркой) «вольтовой дуги», но образует некую связь между поэтом — маленьким российским спутником в другом полушарии — и страной огромной притягательной силы — Россией, внося не магнитную, но магнетическую поправку на духовно-нравственное склонение умов. Эта коррекция, эти слабые поля ощущались и ощущаются не всеми. И перевести это ощущение в категорию понимания можно, донося, пусть «гомеопатическими» дозами, творчество Поэта до людей, что не может не оздоровлять опустошенные души моложаво-спортивных современников.
Понимание приходит обычно после знакомства и с творчеством, и с личностью творца; а понять — это зачастую синоним не только слова «простить», но и «полюбить». Особенно человека, чья судьба пересеклась и была, хотя и не надолго, связана с судьбой нашей «малой Родины» — Московского лесотехнического института.
Трудно, конечно, впрямую связывать появление и тематику всех стихотворений 1944–1945 годов с пребыванием будущего большого поэта Наума Коржавина в эти годы только в Лестехе. Но нельзя и отрицать того, что жизненный опыт, накопленный, в том числе и в общежитии, и в аудиториях Лестеха, не мог не дать 19-летнему поэту пищу для ума и сердца, а значит, и для творчества. Ибо Лестех, как и любой вуз, с его атмосферой, студентами, преподавателями, — это микросрез общества, это «осколок» голограммы, воспроизводящий целостную, не всегда благостную, картину состояния окружающего мира.
О жизни Коржавина до его «попадания» в Лестех можно прочесть в его воспоминаниях под названием «В соблазнах кровавой эпохи», опубликованных в «Новом мире» (первая часть — в № 7, 8, 1992 г. и вторая — в № 1, 2, 1996 г.). Великолепная проза, не уступающая по литературным достоинствам его поэзии, заканчивалась как раз кратким описанием пребывания в Лестехе. Естественно, что нам, музею Лестеха, хотелось подробнее узнать именно об этом периоде жизни поэта. Но — откуда? И вдруг — известие: Наум Коржавин — в Москве. Созвонились, 16 апреля 2000 года встретились у нас дома. И — замечательный подарок — страницы неопубликованных воспоминаний о Лестехе и книжечка стихов с автографом: «Музею Лестеха, где некогда гулял и я».
Эти наши заметки — не исследование творчества поэта (я не литературный критик, я лишь благодарный читатель). О величине, масштабе этого скромнейшего человека надо судить по его творчеству (см.: Наум Коржавин: «Время дано». М: Художественная литература, 1992 и «К себе», М: Эксмо-пресс, 2000). А анализ творчества — что ж — в заметках профессионального критика Бенедикта Сарнова «Верность себе» — и в той, и в другой книжках. И еще одно. И жизненный путь, и творческая судьба Коржавина связаны не только с Москвой, но и с Подмосковьем, с его Северной дорогой, где находились и Лестех, и орудийный завод № 88 в Подлипках (!), и всемирно известные Мытищи. Думается, что «остановка» Н. Коржавина здесь, на великой дороге российской православной истории и российской культуры — знак символический и естественный.
Родился он в 1925 году в Киеве. Мечтал учиться в ИФЛИ — и отправил документа в Ашхабад, куда этот институт был эвакуирован в годы войны. Но вызов пришел... из Свердловска, и не из ИФЛИ, а из МГУ, куда влился ИФЛИ и который разместился в Уральском индустриальном институте. В общежитиях в качестве студентов пребывали будущие известные люди: Д. Сарабьянов — будущий директор института истории искусств АН CCCP; А. Кондратович — ответственный секретарь журнала «Новый мир» при А. Твардовском и А. Солженицыне; академик А. Сахаров, писатель-фантаст Днепров. Было очень голодно; философия или филология не привлекали. Вернулся в сибирский город Сим, на авиационный завод (дававший бронь). Подал документы в MBTУ, авиационный институт, где также давали бронь — а вызов пришел из Лесотехнического, где брони не было. Снялся с учета на заводе — и тут же забрали в армию, хотя был порок сердца и не видел правый глаз! В армии (г. Камышлов между Свердловском и Тюменью) стал солдатом 384-го запасного стрелкового попка — рота кандидатов в военные училища. После медкомиссии перевели в нестроевую часть — в г. Алапаевск на Урале, куда пришло предписание явиться в Московский лесотехнический институт. В Москву прибыл в апреле 1944 года.
Требовалось прописаться, встать на учёт в военкомате. Тут же был вновь мобилизован и распределен... на орудийный завод № 88 в Подлипках (будущее HПO «Энергия») — сначала учеником контролера, затем — в художественную мастерскую завкома. Оттуда — на учебу в МЛТИ (в последний год войны он также начал давать бронь). Вот они, воспоминания об этих днях.
А. М. Волобаев.
Отрывок из мемуаров
Несколько слов для, так сказать, введения в этот отрывок. Весной 1944 года после краткого пребывания в армии, где был признан годным к нестроевой службе в тылу, я приехал в Москву с Урала по вызову Лесотехнического института, но был тут же мобилизован и направлен на работу на завод в Подлипках; приткнуть меня было некуда, и меня подобрал зав. художественной мастерской при завкоме Н. П. Тузов. Там я проработал до осени, когда появилась возможность вернуться в институт.
Без особых трудностей я ушел со своего ответственного поста обратно в свой Лесотехнический институт. Это стало возможным потому, что студенты, принятые на факультет МОД (механической обработки древесины) этого института в этом последнем военном году начали обеспечиваться бронью. И моральных мук по поводу обретения, таким образом, брони я не испытывал. На этот раз я точно знал, что уклоняюсь не от фронта, а от новой никому не нужной мороки.
В институте я получил и место в общежитии. Конечно, основное в моей тогдашней жизни происходило в Москве. Но не думаю, чтобы я так-таки с самого начала намеревался манкировать занятиями в Лесотехническом институте. Я не сомневался в общественной ценности того, что хочу делать, но не сомневался и в том, что в печать это при моей жизни не попадет и что лучше мне поискать иные средства существования. Так что я совсем был не против приобретения этой нейтральной по отношению к идеологии специальности, и учиться я пробовал. Временами я даже пытался посещать занятия. Был на нескольких лекциях по математике. На первом курсе читалась аналитическая геометрия, и не подряд — я не очень понимал, что это такое в целом, но рассуждения лектора внутри каждой лекции до меня доходили. Получил я некоторое представление о том, что такое начертательная геометрия. Но в целом я не мог противостоять стихии собственной жизни и рядом расположенной Москве. Меня тянуло в другую сторону, а это не способствовало прилежанию.
Впрочем, помогала мне мириться с этим отсутствием прилежания и некоторая богемность духа, которой я считал своим долгом предаваться. Иногда, несколько утрируя своё соответствие традиционному еще тогда для меня представлению о необходимой бесшабашности поэтической натуры. Я даже определял себя так:
Прохожу неровной лентой,
Изрыгаю рёв и мат,
А хорошие студенты
Изучают сопромат.
Бесшабашности — подлинной и приобретенной — у меня тогда не хватало. Вряд ли образ, стоящий за этими строками, точно соответствовал моему внутреннему облику. О внешнем я не говорю, но он достигался не потому, что я к этому стремился. И «неровной тропой», что значит, «надравшись», проходил я где-либо крайне редко, да и не по улице. У меня на это не было ни денег, ни потребности; кроме того, вряд ли я думал всерьез, что духовно превосхожу «хороших студентов» тем, что не учу сопромат. Но вовсе от такой гордыни, от сознания исключительности своей судьбы, связанной с профессией, воспринятой как признание, я свободен не был. Что греха таить, этому предавался. Но как-то абстрактно — пока не сталкивался с живыми людьми. Стремлением чувствовать себя обязательно выше всех встречных поперечных я не обладал никогда. И со студентами, которые жили со мной в общежитии, я дружил на самом деле, хотя они были людьми практических планов и соображений — профиль института притягивал таких людей. Это никак не означает отвращения от всего высокого. Конечно, если не сводить это высокое к интимному постижению литературы или, скажем, философии. В их практичности и естественности были самостоятельность и достоинство. И рядом с этим естественное уважение к высоким сферам, которыми не занимались. Говорю это не на основании их отношения ко мне, его можно было бы объяснить товариществом, а вообще на основании многих их проявлений. У меня о них остались самые теплые воспоминания.
Почти все они были из не далекой глубинки. Все они понимали, что жизнь дело серьезное, что надо в ней устроиться серьезно и основательно. У некоторых из них родители работали в лесном деле, были директорами лесхозов. Учились в основном на лесохозяйственном отделении, которое брони не давало, были белобилетниками. Были среди них и инвалиды войны. Заходил и партизан из соединения генерала Сабурова. Жил он в Москве, но заходил и к нам.
Мне они всегда сочувствовали, вероятно, поводов для сочувствия было много. Некоторые слышали мои стихи. Все советовали держаться за институт, а больше всех Толя Фадеев. Приехал он откуда-то из-под Тулы. Парень он был простой, крепкий и очень правильный. Одну глупость, как он считал, уже сделал, закончив, горный техникум. Теперь, слава богу, отработал положенное под землей и больше не хочет быть себе врагом. Короче, он решил, что отныне его жизнь должна быть связана только с работой на чистом воздухе. Вот и приехал поступать в лесотехнический институт. Его взгляды на современность были более трезвыми, чем у меня, хотя теоретически они были более обоснованы. Но шел он не от теории, идеологии или поруганной романтики революции, а от жизни и здравого смысла. В нем, прежде всего, был оскорблен именно здравый смысл. Его раздражала всеобщая туфта. Помню, с таким сарказмом рассказывал он о своем зяте, начальнике райотдела МГБ. Занимался тот своей неуважаемой Толей деятельностью, но жил себе да поживал, охранял тыл и на фронт не рвался. Но заело дурака, что у него фамилия — Дубинкин. Попросил заменить на Дубровский, показалось красиво. Заменили. И тут же в войско Польское, туда как раз тогда шел набор.
Я уже не помню всего, что он рассказывал, но всегда это было о разных нелепостях нашей действительности, возмущающих разум, и тем не менее, торжествующих. При всем этом опыте, знании и понимании жизни он это делал совершенно открыто, и, насколько я знаю, все сходило. Может быть, он чувствовал людей. К сожалению, советская интеллигенция, я говорю о самых лучших и честных представителях (поколение Симонова и моложе), проходила мимо таких людей и таким образом утратила связь со здравым смыслом, которая, на мой взгляд, до сих пор восстановилась не полностью.
Однако вернемся к прерванному рассказу. Мне Толя очень сочувствовал, и все же я был очень неустроен: и несло меня неизвестно куда, и в литинститут меня не приняли. Не думаю, что он много знал о поэзии или о моих стихах, но у него были другие интересы. Одно он понимал ясно, что я пишу то, что хочу и думаю. А что это дело по нашему времени абсолютно гиблое, он знал и до встречи со мной. Но он не уговаривал меня писать по-другому, т. е. наоборот, и при этом принимал меры предосторожности.
— Не дури, Наум!.., увещевал он меня своим затрудненным, сдавленным голосом. — Держись за институт, а когда его закончишь, будешь работать в лесу, далеко от всего этого, где и будешь писать, что захочешь. А то ведь пропадешь — убьют. Разве они правду потерпеть? Это же бандиты.
Высокий, худощавый, жилистый, крепкий, он весь при этом светился добротой и заботливостью. Он ведь и впрямь был старше и опытней. Но в то же время говорил он это вслух, при ребятах и девушках и чувствовал себя в полной безопасности. Вряд ли многие из сидевших вокруг стола (разговор был в новогоднюю ночь) интересовались политикой, но, что жизнь такая, знали все. И поэтому слова, сказанные Толей, воспринимались ими как дружеский совет, а не как политический выпад. Никаких политических задач не ставил перед собой и Толя, справедливо полагая, что не его это дело и что плетью обуха не перешибешь. Он просто хотел меня уберечь.
Потом оказалось, что Толя ошибался: тоталитаризм не оставлял убежищ. Лесное хозяйство тоже не избежало пристального внимания родной партии, оказалось в центре целых двух шумных политических кампаний: лесопосадочной и общебиологической. Не знаю, насколько разумна была сама идея, но оказаться под руководящим воздействием всеобъемлющей некомпетентности Толе все-таки пришлось. И хоть к тому времени я его потерял из виду, уверен, что ему было не очень приятно. Но тогда мы этого не предвидели. Мы не могли угнаться за столь быстро развивающимся сталинским маразмом.
Что еще у меня связано с Лесотехническим институтом? Наверно, многое, но многое и забылось. Остались только теплота воспоминаний и благодарность, что Россия открывалась мне так. Из этого не следует, что не было ничего другого. В том же институте под занавес произошла такая вот пакостная история, вызванная провокацией и мелкой, может быть, даже бескорыстной подлостью — бывает и такая. Как я ни манкировал занятиями, я все-таки иногда их посещал. Особенно после того, как очередной раз вставал вопрос о моем отчислении. Но из-за этого в институтскую жизнь я все же как-то входил. У меня появились знакомые, приятели, я многих знал, и многие знали меня. Везде, в комитете комсомола тоже. И кто-то, не помню, попросил меня то ли дать стихи в стенгазету, то ли представить их для чтения на торжественном вечере. Я выбрал подходящие и дал, но кто-то, опять-таки не помню, кто, их запретил. И это меня возмутило. Прежде всего, глупостью мотивации тогда это меня еще не возмущало.
Конечно, в это время в Москве, о чем многие помнят, тут я вынужден вторгнуться в темы следующей главы — на литературных собраниях я публично читал любые, в том числе и самые крамольные, свои стихи, и не удивлялся, когда натыкался на сопротивление руководителей. Но одно дело литературные объединения, где перепуганные руководители «давали отпор» уже после того, как стихи были прочитаны, и совсем другое, когда стенгазеты и торжественные вечера, где просмотры были предварительными. Напечатать или прочесть там крамольные стихи было физически не возможно. Поэтому причина этого запрещения могла быть только глупой, даже очевидно-глупой. Возмущению моему не было предела, оно искало выхода. Это-то и толкнуло меня искать правду.
Реакция была естественная, но, как все естественное среди торжествующей прострации, — глупая. Я этих стихов не помню, но, вероятно, были в них какие-то живые строки. А наряженных осуществлять идеологический контроль такие строки всегда настораживали, намекали им на то, что эти люди по своему уровню к доверенной им деятельности не пригодны. А такая деятельность чем дальше, тем больше доверялась тов. Сталиным, в основном, именно таким. Оттепель последних военных и первых послевоенных месяцев на «эстетике» функционеров местного значения отражалась мало. Они свое дело туго знали. И с точки зрения глубинных интересов сталинщины были правы. И поэтому система всегда была бы на их стороне. В этом я убедился почти сразу. А не знал, что основной чертой идеологических работников сталинской и послесталинской эпохи было полное единственно возможное для них мышление, а они нужны были Сталину для нормативного контроля. Так что получалась гармония.
На каком институтском уровне меня запретили, не помню. Возможно, по линии комсомола. Точно только помню, что не по линии партбюро — поскольку это противоречит сюжету, а сюжет развивался так. Мои поиски правды выразились в основном в возмущении, которое я, по-видимому, выражал достаточно громко. И тут вокруг меня стал виться некий мальчик с лисьей мордочкой, который принял живое участие в моих переживаниях. Не могу сказать, что я верил его участию, я даже подозревал подвох, но мне как-то нечем было возразить. Он предложил мне сходить к секретарю партбюро. Я ему ответил, что уже ходил, но тот занят. Секретарем партбюро был у нас зав. кафедрой марксизма-ленинизма. Тем не менее, человеком он был симпатичным, серьезным и, как я теперь думаю, честным (чем-то он напоминал мне симского Ивана Никаноровича). Тем более, что тогда еще от них не требовалось учить специалистов и контролировать учебные программы. Так что не удивительно, что я захотел к нему зайти. Но впрямь он был занят.
— Да что ты, ничего он не занят, — сказала лисья мордочка. — Просто у него сейчас инструктор горкома сидит (мы относились к Мытищам, а там был не райком, а горком). Погоди, я сейчас все устрою.
И лисья мордочка на минуту скрылась за дерматиновыми дверями. Я предчувствовал что-то недоброе. Но я ведь был прав, чего же мне было беспокоиться! Какое во мне тогда ещё было причудливое сочетание ума и глупости! Что-то я видел ясней и глубже, чем многие другие, а чего-то, более простого, что, казалось бы, прямо вытекало из этого и это быстро усекла лисья мордочка, как бы не видел совсем. Правда, до этого с партийными органами я дела не имел и думал о них, что все-таки работают люди, лично озабоченные неким «общим делом», что-то думающие, решающие. Люди, способные на это, еще тогда встречались, но редко, а когда дело доходило до идеологии, то это качество почти не проявлялось, идеология была централизована больше, чем что-либо другое. Система не дремала, она все больше подбирала себе людей, которые отличались каким-то боевым непониманием подобных материй. Но это я понял и уяснил гораздо позже.
Мордочка выскользнула из кабинета и плотоядно произнесла: «Зайди»! Я и теперь не знаю, из-за чего он старался или просто пакостил для удовольствия? Впрочем, ни один из вариантов удовольствия не исключал, а оно ощущалось явственно. Бывают же такие люди!
В кабинете за столом напротив нашего секретаря сидела некая мрачная личность. Обладала она и другими чертами — лысосью, морщинами, шарообразностью головы, но все эти черты бывают и у других людей и жестко ни с каким характером поведения не связаны. Но настороженная мрачность этой личности была ее отличительной чертой — чертой выдвиженца, находящегося не на своем месте вообще. Судя по всему, она ведала идеологией. Услышав в чем дело, инструктор горкома сразу оживился, почувствовал, что дело пахнет жареным, что можно разоблачить и пресечь, ведь не каждому выпадает такое счастье. Секретарь парткома молчал, в его глазах не было упрека, видимо, понимал, что я по наивности поддался лисьей мордочке, но было сожаление. По нему я сразу понял, что свалял дурака, подвел и себя, и его. Но ведь действительно в стихах ничего не было!
Для инструктора неважно было, что именно я написал, в этом он ничего не понимал. Важно было, что запретили, а раз запретили, значит, стихи вызывали сомнение. И этого достаточно, стихи советского человека сомнения вызывать не должны. А я вместо того, чтобы благодарно извлечь урок, напротив, протестую. Естественно он взорвался.
Что он говорил, вернее, кричал, я сейчас не помню. Ведь я не помню, о каких стихах шла речь. Помню только, что он с первой секунды, как хороший советский судья, яростно встал на сторону обвинения и что разоблачал меня не просто, а целя, не называя его, в партком, который такие безобразия допустил. Партком тут был, как говорится и как ясно читателю, ни сном, ни духом, но он — копал. Не помню, возражал ли я ему или нет. Скорее возражал, глупость обезоруживает, но я ведь тогда был логичен.
Помню только смутное чувство неловкости перед секретарем. Но с секретарем, слава Богу, ничего тогда не стряслось, а мое пребывание в институте все равно подошло к концу. Разумеется, произошло это не сразу. Я еще даже продолжал посещать институт, но дело шло к этому. Но именно в это время не здесь, а в Москве со мной начало происходить нечто важное. По причинам, связанным с существом моей жизни и творчества, а не с безосновательными придирками к невинным стихам, надо мной по-настоящему сгустились тучи. А потом произошли весьма странные события, по-странному разредившие тогда эти тучи. Но это уже тема из следующей главы.
После этой «беседы с инструктором» я еще некоторое время продолжал жить в общежитии. И когда совершено справедливо (не сдавал экзаменов) был исключен из состава студентов. Хотя события мои были по тем временам чреваты неприятностями. Когда же почему-то жить в общежитии стало невозможно (кажется, все разъехались на каникулы), я несколько раз ночевал в котельной института, приезжал ночью, приходил и ночевал, и кочегары, спасибо им, меня не прогоняли. Все это мелочи, но без этих мелочей, а их тогда было много в моей жизни, я бы погиб. Спасибо всем, из-за кого я выжил тогда.
Стихотворения, написанные в период пребывания в Лестехе
Гейне
Бала эпоха денег,
Был девятнадцатый век.
И жил в Германии Гейне,
Невыдержанный человек.
В партиях не состоявший,
Он как обыватель жил.
Служил он и нашим, и вашим —
И никому не служил.
Был острою злостью просоленным
Его романтический стих.
Династии Гогенцоллернов
Он страшен был, как бунтовщик,
А в эмиграции серой
Ругали его не раз
Отпетые революционеры,
Любители догм и фраз.
Со злобой необыкновенной,
Как явственные грехи
Догматик считал измены
И лирические стихи.
Но Маркс был творец и гений,
И Маркса не мог оттолкнуть
Проделываемый Гейне
Зигзагообразный путь.
Он лишь улыбался на это
И даже любил. Потому,
Что высшая верность поэта —
Верность себе самому.
Знамена
Иначе писать
не могу и не стану я.
Но только скажу,
что несчастная мать.
А может,
пойти и поднять восстание?
Но против кого его поднимать?
Мне нечего будет
сказать на митинге.
А надо звать их —
молчать нельзя ж!
А он сидит,
очкастый и сытенький,
Заткнувший за ухо карандаш.
Пальба по нему!
Он ведь виден ясно мне.
— Огонь! В упор!
Но тише, друзья:
Он спрятался
за знаменами красными,
А трогать нам эти знамена —
нельзя!
И поздно. Конец.
Дыхание сперло.
К чему изрыгать бесполезные стоны?
Противный, как слизь,
подбирается к горлу.
А мне его трогать нельзя:
Знамена.
***
Мы родились в большой стране, в России!
Как механизм губами шевеля,
Нам толковали мысли неплохие
Не верившие в них учителя.
Мальчишки очень чуют запах фальши.
И многим становилось всё равно.
Возились с фото и кружились в вальсах,
Не думали и жили стороной.
Такая переменная погода!
А в их сердцах почти что с детских лет
Повальный страх тридцать седьмого года
Оставил свой неизгладимый след.
Но те, кто был умнее и красивей,
Искал путей и мучился вдвойне...
Мы родились в большой стране, в России,
В запутанной, но правильной стране.
И знали, разобраться не умея
И путаясь во множестве вещей,
Что все пути вперед лишь только с нею,
А без нее их нету вообще.
1945
***
Предельно краток язык земной,
Он будет всегда таким.
С другим — это значит: то, что со мной,
но — с другим.
А я победил уже эту боль,
Ушел и махнул рукой.
С другой... Это значит: то, что с тобой,
Но — с другой.
1945
Русской интеллигенции
Вьюга воет тончайшей свирелью,
И давно уложили детей...
Только Пушкин читает ноэли
Вольнодумцам неясных мастей.
Бьют в ладоши и «браво». А вскоре
Ветер севера трупы качал.
С этих дней и пошло твое горе,
Твоя радость, тоска и печаль.
И пошло — сквозь снега и заносы,
По годам летних засух и гроз...
Сколько было великих вопросов,
Принимавшихся всеми всерьез?
Ты в кровавых исканьях металась,
Цель забыв, затеряв вдалеке,
Но всегда о хорошем мечтала
Хоть за стойкою
вдрызг
в кабаке —
Трижды ругана, трижды воспета.
Вечно в страсти, всегда на краю...
За твою необузданность эту
Я, быть может, тебя и люблю.
Я могу вдруг упасть, опуститься
И возвыситься
дух затая,
Потому что во мне будет биться
Беспокойная жилка твоя.
1944
Наум Коржавин.
В 1946 году Н. Коржавин поступает в Литературный институт, в 1947 году его арестовывают (восемь месяцев провел на Лубянке) и ссылают в Сибирь. В Москву возвращается в 1954 году, в 1959 заканчивает Литинститут. (В своем дневнике литсотрудница газеты «Путь к Победе» Н. Самойленко записывает: «он очень вредный человек... потому что он очень обаятельный человек... просто преступно обаятельный).
В 1963 году выходит первая книга (в 38 лет), хотя его стихи переписывались от руки и перепечатывались на машинке, с первых послевоенных лет, задолго до появления самиздата. Вернувшийся в жизнь поэт стал для властей литератором неудобным, выступив в 1966 году в защиту Даниэля и Синявского, в 1967 — Галанского и Гинзбурга, предлагая широко обсудить письма А. Солженицына IV съезду Союза Писателей ССCP, и в 1973 году был вынужден уехать из страны. С тех пор живет в Бостоне.
Поэт со своим узнаваемым голосом, с лирико-философским складом ума и стиха, в свой летний Московский, 2000 года, приезд, со своей лыжной (!) палкой (с ручкой, обмотанной синей изоляционной лентой), которой он, как все слабовидящие люди, постукивал впереди себя — не казался беспомощным, но горновосходителем, прокладывающим, пусть на асфальте, торную дорогу — всегда вперед и выше — к Людям.
От созидательных идей,
Упрямо требующих крови,
От разрушительных страстей,
Лежащих тайно в их основе,
От звезд, бунтующих нам кровь,
Мысль, облучающих незримо, —
Чтоб жажде вытоптать любовь,
Стать от любви неотличимой,
От Правд, затмивших правду дней,
От лжи, что станет им итогом,
Одно спасенье — стать умней,
Сознаться в слабости своей
И больше зря не спорить с Богом.
Написанное в 1971 году стихотворение «22 июня 1941 года» оказалось пророческим для Коржавина. В 2018 году сердце большого русского поэта остановилось именно в этот памятный для всех россиян день. День 22 июня...
Читайте Коржавина!
А. М. Волобаев, зав. музеем МФ МГТУ.
Электронная версия статьи подготовлена
А. М. Волобаевым и А. В. Подворной
на основе материалов книги
«Лестех. Продолжение следует» 1953–1968. Издание 2003 года.
