Музей МГТУ им. Н.Э. Баумана
Мытищинский филиал
ЖЗЛ — Жизнь Замечательных Лестеховцев
Быт или не быт? О Лестехе 50-х годов рассказывает А. Н. Полищук
Появление на селе городской девчонки для местных ребят — сказка, появление же красивой девчонки в босоногом, голодном, послевоенном селе — фантастика.
Она была тихая и загадочная, умная и интересная, но главное — у неё был греческий профиль. Через два года она, счастливая, писала мне, что поступила в МГУ и что я тоже должен учиться только в Москве.
Идея была заманчива, но были и серьёзные причины для трезвого отношения к такому предложению. Отец — в лагере на 25 лет. Мама — в колхозе от зари до зари не разгибается с тяпкой, при этом не получает ни копейки. Да и сам я не переоценивал свои знания и способности. Считал, что столичные вузы только для талантливых, незаурядных ребят. Поэтому греческий профиль для меня был далёкой звездой.
Как-то летом, в конце учёбы, я зашёл в родную школу. На стене висело большое объявление. В нём говорилось, что МЛТИ приглашает на учёбу. Среди прочего в объявлении были напечатанные красной краской строки: «Все успевающие студенты обеспечиваются повышенной стипендией, для студентов института вводится форменная одежда». Эти фразы как бы сняли вопросы моей материальной несостоятельности.
Я мечтал стать инженером. Звание инженер для меня было самым высоким. Решение было принято: только в Мытищи. Да и название города почему-то было знакомое. Ах, да! «Чаепитие в Мытищах» В. Г. Перова. А то, что профиль вуза лесной, — тоже всё логично: моя фамилия переводится как «житель полесья».
Признаюсь, существовало ещё одно тайное соображение в пользу МЛТИ: отсутствие в институте пресловутой мандатной комиссии.
Размягчённый асфальт под солнцем июля 1954 года, запах воздуха, напоённый ароматическими углеводородами выхлопных газов автомобилей, масса движущихся людей, чистое прохладное метро с быстрыми поездами — вот первые яркие впечатления от встречи с городом-мечтой. Захватывало дух от осознания того, что ты находишься в главном городе страны, где всё — самое-самое...
Город запомнился чистым, умытым. Автомобилей на улицах было сравнительно мало. Это были преимущественно «Москвичи» и «Победы».
На перекрёстках, на тумбах возвышались милиционеры-регулировщики, одетые в белую униформу. Москва гудела какофонией автомобильных сигналов. Правилами движения того времени подача звуковых сигналов не ограничивалась. Разметки на проезжей части дороги практически не было. Разрешался даже правый поворот транспорта на красный свет светофора.
Москва того времени славилась самым вкусным мороженым, которого было много и разного. Напитки продавались только двух видов: газированная вода и квас. Тысячи людей пили из одного гранёного стакана. Билеты на трамвай, троллейбус и автобус стоили соответственно 3, 4 и 5 копеек. Проезд в метро был по пятикопеечному бумажному билету, который обязательно следовало сохранять до конца поездки: в метро трудились тысячи женщин-контролёров. Сезонки на электричку продавались с личной фотографией и только по справке с места работы.
На каждом углу дома стояла будка чистильщика обуви, поэтому, хотя обувь на ногах была только отечественная и не первой свежести, она всегда сверкала блеском. В силу бедности, многие люди носили парусиновую обувь, вид которой поддерживался с помощью зубного порошка. Кроссовки были атрибутом только спортсменов, а майки относились к предметам нижнего белья.
Кафельные, зеркальные и бесплатные общественные туалеты блистали чистотой. Сигарет в обиходе не было, мужчины курили папиросы «Прибой», «Норд» и другие, женщины были благоразумны и не курили.
Единственным звуковоспроизводящим прибором в продаже был патефон с пластинками на 78 оборотов в минуту. Конечно, чудом того времени был телевизор. Люди семьями сходились на телепередачу. Знаменитый и единственный тогда телеприёмник «КВН-49» имел экран размером 105×140 мм. Для увеличения картинки к экрану пристраивалась линза в виде пластмассового сосуда, заполненного дистиллированной водой.
В то время в Мавзолее рядом лежали два вождя, их можно было сравнивать. Один розовощёкий, холёный, другой — с восковым цветом лица и маленькими усохшими ушами.
В состав СССР тогда ещё входило не 15, а 16 союзных республик. Президиум страны возглавлял К. Е. Ворошилов, Совет Министров — Н. А. Булганин, а партию — Н. С. Хрущёв. Доллар США в то время стоил 40 копеек.
А чего же не было в то время? Очень многого не было из того, что окружает нас сейчас: Останкинской телебашни и космических ракет, подземных переходов и кольцевой автомобильной дороги. Не было привычной нам видео- и аудиотехники, компьютеров и калькуляторов, транзисторов и электронных часов. Не было мини-юбок и СПИДа, шампуней и газовых пистолетов, жевачки и шариковых ручек.
Воротами МЛТИ всегда была платформа Строитель. Через каждые 20 минут подходил очередной поезд, и людской поток направлялся в сторону института.
Платформа и все строения на ней были деревянные. На платформе работали буфет и туалет. Шпалы были деревянные, опоры электросети — стальные. Двери в вагонах электрички были неавтоматические. Лихачи всегда висели на подножках.
Надо сказать, что в то время дороги посёлка Строитель были ужасные. Ни одна улица и даже территория института не были заасфальтированы, некоторые дороги были покрыты шлаком, а большая часть из них — это непроезжая колея.
Студенческий городок — это 13 двухэтажных деревянных зданий. Территория была обнесена забором из стального профиля с двумя проходными: одна — в сторону платформы, другая — в сторону института. В каждой комнате общежития проживало до 12 человек. В городке был свой мир. Авторитетным «предприятием» была кубовая, где круглые сутки парил котёл на 200 литров воды. Студенты заполняли свои алюминиевые чайники кипятком и спешили испить чаю... без заварки. В другом строении была студенческая прачечная. На территории было несколько волейбольных площадок, на которых сетки висели постоянно. Мы «резались» в волейбол страстно и до темноты.

В Строителе в 1930–1935 годах Лестех, находясь в Москве, построил 10 восьмиквартирных домов. Но появился здесь лишь в 1943 году.
Из-за недостатка мест в общежитии студентов селили даже на территории института и в Щёлковском лесхозе. Многие жили на дачах (на «углах»).
Самый счастливый период жизни человека — студенческий, при условии, что студент живёт в общежитии. Учёба, аудитория — это только незначительная часть студенческой жизни, а основная жизнь студента — после занятий. Если студент в цейтноте, он ночью чертит, рассчитывает; если студент свободен от дел, он ночью веселится, гуляет, как теперь говорят, «балдеет».
В общежитии студент подчиняется тотальному режиму: живёт, как все. Нужно обладать поистине богатырским здоровьем, чтобы жить в общежитии, регулярно недосыпая, недоедая, в шуме, в дыму.
Но какое счастье жить в общежитии! Друзья, свобода, шутки, любовные приключения, счастье от ерунды. Помню‚ первые дни работы общежития № 5. При входе, направо и налево — просторные холлы. Каждый вечер допоздна танцы. Звучали современные мелодии с граммофонных пластинок ГДР: «Прекрасный город», «Любовь в лягушачьем пруду», «Караван», кубинское танго «Курина консистрес» и др. В это время студенты осваивали и рок-н-ролл.
Не могу объяснить причину, но традиционно в МЛТИ много пили горькую. Может, это объясняется спецификой лесной профессии, может, тем, что наш вуз далеко от властей и «органов», а может, некоторые преподаватели сами провоцировали студентов на это грешное дело? Много молодых, красивых, умных ребят из-за этого зелья потеряли не только институт и здоровье, но и жизнь.
Запомнилась бедность. Одевались студенты скромно. Единственным видом спортивных брюк были сатиновые шаровары, в которых, по бедности, ходили и на лекции. (Помню, прохудились единственные брюки. Долго искал подходящий кусок ткани для заплатки. Пришлось оставить дырку в матраце.) Суточная пайка состояла из серого батона и пачки маргарина. Студентам приходилось подрабатывать, разгружая товарные вагоны, — но только ночами, не пропуская занятий.
В 1955 году на территории института было открыто общежитие № 15. Сюда поселили студентов-иностранцев. Здесь был другой быт: жили по 4 человека в комнате, даже был телевизор. Общежитие № 5, бывшее № 16, о котором уже шла речь, было введено в эксплуатацию в 1956 году. В коридорах — ковровые дорожки. На каждом этаже 2 туалета, 2 бытовые комнаты; ещё были 2 душевые, телекомната, кухня с титаном, буфет.
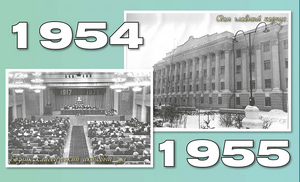
В 1955 году к главному корпусу института был пристроен прекрасный актовый зал, в котором стали принимать видных деятелей культуры Москвы. До этого все общеинститутские мероприятия проводились в аудитории 432 или для этой цели институт арендовал помещения московских театров.
До постройки в 1958 году столовой № 13 старая одноэтажная студенческая столовая находилась на месте теперешних учебно-производственных мастерских (УПМ).
Кстати, одно из достоинств советского времени состояло в том, что с приближением вечера, когда нестерпимо ощущался голод, студент мог бесплатно перекусить. Для это он брал фибровый чемоданчик, модный по тем временам, и отправлялся в столовую. Там он незаметно сгребал с нескольких хлебниц нарезанный хлеб, захватывал горчичницу и возвращался к жаждущим друзьям в общежитие.
В 1959 году произошло событие экстраординарное: в МЛТИ в гости приехала группа финских студентов-деревообработчиков. С «капиталистами» мы общались впервые. Днём были экскурсии, а вечером в столовой — застолье. Помню, в составе группы был красавец-блондин Петер фон Коскулл. Он гордился тем, что являлся представителем голубой крови, а Софья-Августа, будущая императрица Екатерина II, до царствования была домработницей в семье его предков.
Финские студенты здесь не знали предела в возлияниях, так как в их стране существовал «сухой закон». В день отъезда финнов на родину мы с трудом собрали их в кустах посёлка и фактически уложили в автобус.
Медпункт института размещался в главном корпусе, в теперешней преподавательской кафедры физики.
Территория института была обнесена забором. На ночь проходные запирались на ключ. Вход в институт был по пропускам.
В гараже института стояла автомашина «Победа», на которой приезжал на работу директор института Е. И. Власов. Ещё была конюшня с трудолюбивой лошадкой Буней.
На наш курс лесоинженерного факультета было принято 325 человек — 13 учебных групп. На лекции в аудитории 432 не было свободных мест. За место поближе к трибуне преподавателя боролись: эти места занимали по очереди.
Помню, как я впервые почувствовал атмосферу студенческого братства. После первого курса нас направили на практику по таксации в Воря-Богородское лесничество. Июнь месяц, тёплый тихий вечер, берег хрустального озера, воздух, напоённый ароматом хвои. Мы, вчерашние школьники, приехавшие из разных концов страны, сидим, прижавшись друг к другу, и заворожённо слушаем пение под гитару бывалого однокашника. Это и «Студенточка — заря вечерняя...», и «Сиреневый туман», и «Я помню тот Ванинский порт...», и многое другое, нам ещё не знакомое. Казалось в ту минуту, что вся наша жизнь будет наполнена только счастьем и блаженством.
Помню первую лекцию 1 сентября 1954 года. Её читал профессор геодезии В. А. Баринов. Человек небольшого роста, подтянутый, седовласый, с манерами дореволюционного учёного. Он был влюблён в геодезию, глубоко знал её и искренне хотел передать нам свои знания. Читал лекции в возвышенно-романтической манере, которые часто заканчивались аплодисментами. Это был наивный и добрый человек.
Ходила легенда, что только однажды он поставил студенту неудовлетворительную оценку, но, чувствуя угрызения совести, в тот же день нашёл в общежитии свою «жертву» и исправил оценку на «удовлетворительно».
Был другой случай. Студенты, как правило, ездили в электричке без билета. Ревизор поймал «зайца» и требовал уплатить штраф. В. А. Баринов, оказавшийся в вагоне, встал на защиту бедного студента, но ревизор был неумолим. Тогда профессор сам оплатил штраф.
Математический анализ нам читал будущий декан МГУ и академик Н. В. Ефимов. Его ясные, методически отточенные лекции завораживали нас. Он умел держать аудиторию в творческом напряжении. Мы помним его умные, ясные и добрые глаза. Николай Владимирович Ефимов, уже будучи известным учёным страны, лауреатом премии им. Н. И. Лобачевского и работая в МГУ, не прекращал связи с лестехом. Его талант состоял в том, что он мог быть интересен как для студента-математика, так и для студента-деревообработчика.
Одним из самых ярких педагогов был доцент В. О. Самуйлло. Его отличали строгость, чёткость и методичность в изложении материала. Он был настоящим артистом у доски. У этого мастера сопромат казался предметом интересным, простым и доступным.
Неизгладимое впечатление произвёл на меня заслуженный мастер спорта, заведующий кафедрой физкультуры И. Ю. Федосов. Это был красивый, спортивного вида человек, большой энтузиаст здорового образа жизни и лыжного вида спорта. От его внешнего вида веяло убеждённостью, что спорт — это не только здоровье, но и красота. Он много сделал для развития спорта в МЛТИ. Мало кто помнит, что во дворе института был настоящий плавательный бассейн с дорожками на 25 метров — детище И. Ю. Федосова.
Многие интересные и разные личности были в числе моих учителей.
У нас в стране всё секретное называется с приставкой «спец»: спецраспределитель, спецсвязь, спецчасть и т. п. Видимо, по соображениям секретности военная кафедра в вузе называется спецкафедрой. За время обучения в институте мы практически получили вторую, военную, специальность (я имею в виду штурманское дело). Обучали нас, в основном, офицеры-фронтовики, люди бывалые, смелые, прекрасно знающие своё дело. Вспоминаю колоритную фигуру полковника Романова, Героя Советского Союза, человека прямого, бескомпромиссного. Все учебники по самолётовождению ссылались на этого профессионала. В годы войны Романов свозил В. М. Молотова в Вашингтон на переговоры, за что и получил звание Героя...
Мы ясно помним всех наших учителей, кто передавал нам свои знания, свой опыт, учил нас уму-разуму, отдавая нам тепло своей души.
Заканчивая эту хронику, я поймал себя на мысли, что в те далёкие дни юности нам даже во сне не могли привидеться те изменения, которые произошли в стране за короткое время. Россия стала на цивилизованный путь развития, и одним из подтверждений этому является то, что данный материал увидел свет без горлита и купюр (Горлит — городской отдел Главного управления по делам литературы и издательств РСФСР, занимавшийся цензурной проверкой печатных материалов в 1931 — начале 1990-х гг.)
Электронная версия статьи подготовлена
А. М. Волобаевым и А. В. Подворной
на основе материалов книги
«Лестех. Начало. 1919–1953». Издание 1999 года

